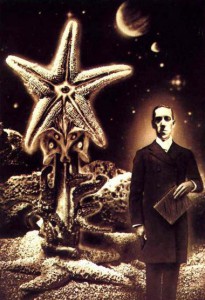|
|
Здесь опубликованы лучшие рассказы западных писателей-фантастов.
Алхимик
На вершине горы, набухшие склоны которой у основания топорщатся
косматым лесом, привольно раскинувшим узловатые деревья, венцом на ложе трав
возлежит замок моих предков. Из века в век ощерившиеся зубцы стен держат в
узде суровую, изрытую морщинами местность, приняв под свое покровительство
надменный замок, соперничающий по древности, судя по величественному
силуэту, с замшелыми стенами. Древние башни, прокаленные вихрем поколений, в
многочисленных язвах, оставленных медленно, но наверняка действующим ядом
временем, в эпоху феодализма славились по всей Франции, наводя ужас на одних
и восхищая других. Бойницы и укрытия видели баронов, графов и даже королей,
готовых биться до последнего, и никогда эхо от шагов завоевателей не
раздавалось в просторных залах замка.
Однако с той героической поры все переменилось. Бедность, немногим
отличавшаяся от крайней нужды, и гордыня, не позволившая наследникам
осквернить свое славное имя торговыми аферами, обрекли на гибель некогда
девственное великолепие владений; так что все здесь осевшие стены,
запущенная буйная растительность парка, пересохший ров, наполненный пылью,
щербатые внутренние дворики, накренившиеся башенки, покосившиеся полы,
траченая обшивка, поблекшие гобелены слагало грустную повесть об оскудевшей
роскоши. С годами одна из главных башен развалилась, потом наступила очередь
других. Четырехглавая когда-то крепость стала одноглавой, а место
могущественного лорда занял его обнищавший потомок.
Здесь, в одной из просторных и мрачных комнат замка, я, Антуан,
последний из обреченного графского рода С., впервые увидел свет девяносто
лет назад. Эти стены, как и склоны горы, меченные темными мрачными чащами,
лощинами и гротами, были свидетелями первых лет моей безрадостной жизни. Я
не знал своих родителей. Мой отец погиб в возрасте тридцати двух лет. Это
случилось за месяц до моего рождения; его убил камень, сорвавшийся с
полуразрушенного парапета. Моя мать умерла в родах, и я оказался на
попечении слуги, человека в высшей степени достойного и наделенного к тому
же недюжинным умом. Если мне не изменяет память, его звали Пьер. Я был
единственным ребенком. Одиночество, принявшее меня сразу после рождения,
только укреплялось благодаря стараниям моего воспитателя, который всячески
препятствовал какому бы то ни было общению с крестьянскими детьми, чьи семьи
обосновались повсюду на раскинувшейся у подножия горы равнине. В те времена
Пьер объяснял свой запрет тем, что отпрыску благородного рода негоже водить
дружбу с плебеями. Теперь я знаю, что истинная причина пряталась в другом:
он хотел уберечь мои уши от россказней о роке, который из поколения в
поколение преследовал мой род. Эти истории, щедро расцвеченные, заполняли
досуг арендаторов, собиравшихся по вечерам перед жарко растопленным очагом.
Одинокий, предоставленный самому себе, я проводил годы своего детства,
час за часом, изучая старинные фолианты, коими изобиловала сумрачная
библиотека замка, бесцельно слоняясь или одержимо вспугивая вековую пыль в
фантастическом лесу, прикрывающим наготу горы у подножия. Вероятно, это
времяпрепровождение и стало причиной того, что тень меланхолии довольно рано
осенила мой ум. Занятия и исследования, навевавшие воспоминания о мрачном
таинстве дикой природы, всегда имели для меня особую притягательность.
Ученость не была моей стезей: даже те крупицы знания, которые мне
удавалось выловить, удручали меня. Очевидная неохота моего престарелого
воспитателя углубляться в историю моих предков по отцовской линии обостряла
тот ужас, который пронизывал каждое упоминание о доме и невольно передался
мне. На излете детства я сумел слепить воедино бессвязные обрывки
разговоров, слетавшие с непослушного языка заговаривающегося старика и
имевшие отношение к неким обстоятельствам, с годами превратившимся для меня
из странных в муторно мучительные. Рано проснувшиеся во мне дурные
предчувствия были пробуждены обстоятельствами, которые сопутствовали смерти
моих предков графов из рода С. Сначала я объяснял их безвременную кончину
естественными причинами, полагая, что происхожу из семьи, в которой мужчины
долго не живут, однако с возрастом стал задумываться о бессвязных старческих
речах, в которых речь часто шла о проклятии, из века в век отмерявшем
носителям графского титула срок жизни длиною лишь в тридцать два года. Когда
мне минул двадцать один год, престарелый Пьер вручил мне рукописную книгу,
переходившую, по его словам, на протяжении многих поколений от отца к сыну с
тем, чтобы каждый новый ; владелец продолжил летопись рода. Книга содержала
поразительные записи, и их внимательное изучение ничуть не рассеяло мои
мрачные предчувствия. В то время вера во все мистическое пустила глубокие
корни в моей душе, и я не был в состоянии изгнать ее и отнестись к
невероятному повествованию, которое я впитывал строка за строкой, как к
презренной выдумке.
Рукопись перенесла меня в прошлое, в тринадцатый век, когда замок, где
я родился и вырос, был грозной и неприступной крепостью. Именно в те времена
появился в наших владениях некий человек весьма примечательный, хотя и
низкого положения, в котором ему уступали лишь крестьяне. Его звали Мишель,
впрочем, он был более известен как Мове что значит Злой, поскольку о не шла
страшная слава. Он изнурял себя в поисках философского камня и эликсира
молодости и слыл апостолом черной магии и алхимии. У Мишеля Злого был сын по
имени Карл, юноша, столь же сведущий в оккультных науках, сколь и отец,
которого все звали Ле Сорсье, или Колдун. Честные люди сторонились этой
пары, подозревая, что отец и сын совершают нечестивые обряды. Говорили, что
Мишель заживо сжег свою жену, принеся ее в жертву дьяволу, что именно он и
его сын виновны в участившихся исчезновениях крестьянских детей. Тьму,
которая окутывала этих людей, прорезал лишь один искупительный луч: ужасный
старик исступленно любил своего отпрыска, и тот отвечал ему чувством,
намного превосходившим обычную сыновнюю преданность.
В ту ночь в замке на горе царила тревога. Исчез юный Годфрей, сын
Генриха, графа С. Несколько человек во главе с обезумевшим отцом, прочесывая
местность в поисках юного графа, ворвались в хижину, где жили колдуны, и
застали там старого Мишеля Злого, хлопотавшего вокруг гигантского чана, в
котором кипело какое-то варево. Не владея собой от бешенства и отчаяния,
граф бросился на старика, и несчастная жертва испустила дух в его
смертоносных объятиях. Тем временем слуги обнаружили молодого Годфрея в
дальних пустовавших покоях замка, но радостная весть пришла слишком поздно,
чтобы остановить бессмысленную расправу. Когда граф со своими людьми покинул
скромное жилище алхимика и двинулся в обратный путь, за деревьями маячил
силуэт Карла Колдуна. Гомон возбужденных слуг донес до него весть о
случившемся, и, на первый взгляд, могло показаться, что он бесстрастно
отнесся к судьбе, постигшей его отца. Медленно надвигаясь на графа, Карл
монотонным и оттого особенно ужасным голосом произнес проклятие, с того
момента неотступно следовавшее по пятам за представителями рода графа С
Да не достигнет ни один отпрыск рода убийцы
Возраста, превосходящего твой,
проговорил он и, отпрыгнув в сторону темного леса, быстрым движением
выхватил из складок своего платья склянку с бесцветной жидкостью. Плеснув
этой жидкостью в лицо убийцы, Карл скрылся за чернильными кулисами ночи.
Граф скончался на месте и был похоронен на следующий день. С того дня, когда
он появился на свет, и до его смерти прошло немногим больше тридцати двух
лет. Тщетно крестьяне, разбившись на группы, прочесывали лес и земли,
прилегающие к горе: колдун, умертвивший графа, исчез бесследно.
Время и табу, наложенное на упоминание о страшной ночи, стерли
проклятие из памяти семьи графа. Когда Годфрей, невольный виновник трагедии
и наследник графского титула, пал от стрелы во время охоты в возрасте
тридцати двух лет, никто не связал его гибель с роком, перешедшим к нему от
отца. Но когда много лет спустя Роберт, молодой граф, обладавший завидным
здоровьем, был найден бездыханным в окрестностях замка, крестьяне стали
потихоньку поговаривать, что смерть нашла их господина вскоре после того,
как он встретил свою тридцать вторую весну. Людовик, сын Роберта, достигнув
рокового возраста, утонул в крепостном рву; скорбный список пополнялся
поколение за поколением Генрихи, Роберты, Антуаны, Арманы, жизнерадостные,
ни разу не согрешившие, расставались с жизнью, едва им исполнялось столько
лет, сколько было их далекому предку, когда он совершил убийство.
Окончив чтение, я понял, что ждет меня в не столь отдаленном будущем
самое большее через одиннадцать лет, а может быть, и раньше. Жизнь, не
имевшая прежде в моих глазах большой ценности, с каждым днем становилась мне
все милей, и загадочный мир черной магии все глубже и глубже затягивал меня.
Я жил отшельником и не испытывал влечения к науке как таковой; отринув
современность ради Средних веков, я, подобно старцу Мишелю и юноше Карлу,
трудился, стараясь овладеть таинствами демонологии и алхимии. Моя
искушенность возрастала, но я все же был далек от того, чтобы постичь
странное проклятие, обрушившееся на мой род. Порой я утрачивал свой
мистицизм и, бросаясь в другую крайность, пытался объяснить смерть моих
предков более приземленной причиной банальной расправой, начатой Карлом
Колдуном и продолженной его потомками. Убедившись после долгих разысканий,
что род алхимика не имел продолжения, я вернулся к своим штудиям, стремясь
найти заклинание, которое способно было бы освободить мою семью от
непосильного бремени проклятия. В одном решении я был непоколебим: остаться
холостым. Я полагал, что с моей смертью подрубленное родовое древо погребет
под собой проклятие.
Я готовился встретить свое тридцатилетие, когда небесный глас призвал
Пьера к себе. В полном одиночестве я похоронил старого слугу во внутреннем
дворике, где он любил прогуливаться. В конце концов мысль о том, что я
единственное живое существо, обитающее в крепости, перестала занимать меня,
ибо я сжился с чувством покинутости, которое притупило тщетный бунт против
надвигающегося рока, и почти смирился с тем, что должен разделить судьбу
моих предков. Я проводил время, исследуя разоренные залы и башни старого
замка, куда раньше не пускал меня юношеский страх; проникал в закоулки,
которые, по словам старого Пьера, не слышали человеческих шагов уже более
четырехсот лет. Повсюду я натыкался на странные, внушающие трепет предметы.
Я рассматривал мебель, покрытую пылью веков, осыпающуюся трухой под зубами
сырости, давно воцарившейся в комнатах. Небывалая дивная паутина опутывала
все предметы; гигантские летучие мыши хлопали жуткими иссохшими крыльями в
безграничном мраке.
Настал момент, когда я повел самый тщательный учет каждому истекшему
дню и каждому истекшему часу. Я был приговорен, и срок исполнения приговора
приближался с каждым движением маятника часов, украшавших библиотеку.
Момент, при мысли о котором я на протяжении стольких лет замирал от тоски,
был неотвратим. Проклятие вырывало моих предков из жизни незадолго до того,
как они достигали возраста, в котором погиб граф Генрих, и я ежесекундно
ждал прихода страшной гостьи смерти. Я не знал, в каком обличий она
предстанет передо мной, но решил, что ей не встретить в моем лице малодушной
дрожащей жертвы. С возросшим рвением я продолжал обшаривать замок-Событие,
определившее мою дальнейшую жизнь, случилось во время одной из вылазок в
полуразрушенное крыло замка, когда мне оставалось, по моими предчувствиям,
менее недели до рокового часа, который должен был стереть даже тень надежды
на продолжение моего земного бытия и превратить меня в ничто. Добрую часть
утра я посвятил полуразрушенной лестнице в одной из самых древних и
потрепанных временем башен замка. День застал меня за поисками места, откуда
спуск вел в помещение, служившее в Средние века, по всей видимости, тюрьмой,
а затем использовавшееся для хранения пороха. По мере того как я продвигался
по пропитанному селитрой проходу, начинавшемуся у последней ступени, настил
становился все менее упругим, и вскоре мерцающий свет моего светильника упал
на голую, сочившуюся водой стену. Лишенный возможности двигаться дальше, я
хотел было уже повернуть назад, как мой взгляд упал на проделанную в полу
неприметную крышку люка с кольцом. Мне пришлось повозиться, прежде чем я
сумел ее приподнять. Из черного провала поднимался едкий дым, от которого
пламя светильника заметалось с шипением, позволив мне, однако, рассмотреть
падающую скользкую и гладкую глубину каменных ступеней.
Опустив светильник в смердящую бездну, я подождал, пока огонь наберет
привычную силу, после чего начал спуск. Одолев немало ступеней, я оказался в
узком каменном проходе, проложенном, насколько я понимал, глубоко под
землей, и долго шел по нему, прежде чем оказался перед источенной сыростью
массивной дубовой дверью, которая оказала отчаянное сопротивление моим
попыткам открыть ее. Выбившись из сил, я двинулся назад, к лестнице, но, не
успев сделать нескольких шагов, испытал потрясение по своей глубине и
болезненности не сравнимое ни с одним переживанием, будь оно плодом эмоций
или ума. В могильной тишине я вдруг услышал, как скрипят ржавые петли
отворяющейся за моей спиной тяжелой двери. Мне трудно описать свои чувства в
тот момент. Я полагал, что старый замок давно опустел, и очевидное
присутствие человека или духа словно ножом полоснуло меня по сердцу.
Помедлив, я обернулся на звук и, не веря себе, приник взглядом к
представшему передо мной видению.
В проеме старинной готической двери стоял человек в длинном черном
средневековом платье и старинном головном уборе. Его роскошные волосы и
дремучая борода отливали чернотой. Я никогда не встречал человека со столь
высоким лбом, столь узловатыми, похожими на клешни, мертвенно-белыми руками
и столь глубоко запавшими щеками, обрамленными суровыми морщинами. Его
костлявое, аскетическое до истощения тело странно и уродливо контрастировало
с роскошью одеяния. Но более всего меня поразили его глаза две бездонные
черноты, сочащиеся безрассудной нечеловеческой злобой. Пристальный взгляд,
направленный на меня, был преисполнен такой ненависти, что кровь застыла в
моих жилах и я словно прирос к полу.
Наконец человек заговорил, и его резкий голос, в котором звучала
нескрываемая злоба, тяжелая и глухая, только усугубил мой ужас. Незнакомец
облекал смыслы в одеяния, скроенные по латинским образцам, но язык, которым
пользовались просвещенные люди в Средние века, был мне не совсем чужим, так
как я освоил его благодаря усердному изучению трудов алхимиков. Он повел
речь о родовом проклятии, о том, что мне недолго осталось жить; во всех
подробностях описал преступление, совершенное моим предком, и, не скрывая
злорадства, перешел к мести Карла Колдуна. Я узнал, что в ночь убийства
Карлу удалось сбежать, но через много лет, дождавшись, когда наследнику
графа исполнится столько полных лет, сколько было его отцу в роковую ночь,
он вернулся, чтобы выпустить стрелу в его сердце. Тайком пробравшись в
замок, Карл скрывался в том самом заброшенном подземелье, у входа в которое
и стоял зловещий рассказчик. Роберту минуло тридцать два года, и тогда Карл
подстерег его неподалеку от замка и, силой заставив проглотить яд, умертвил
его в расцвете сил; так продолжилось мщение, предсказанное в проклятии.
Предоставив мне подобрать ключ к величайшей загадке, состоящей в том, почему
проклятие не умерло вместе с Карлом Колдуном, который рано или поздно должен
был найти успокоение в земле, мой собеседник пустился в пространные
рассуждения об алхимии и об опытах, коим посвящали все свое время отец и
сын, не утаив и того, что Карл бился над получением эликсира, дарующего
тому, кто его отведал, вечную жизнь и неувядаемую молодость.
Воодушевление, охватившее незнакомца, казалось, вымыло из его взгляда
жгучее злорадство, так ошеломившее меня поначалу, но внезапно дьявольский
блеск снова вспыхнул в его глазах и из горла вырвалось странное змеиное
шипение, после чего он высоко поднял склянку с очевидным намерением
умертвить меня тем же способом, который шесть столетий назад выбрал Карл
Колдун, чтобы расправиться с моим предком. В мгновение ока сбросив с себя
оковы оцепенения, подстегиваемый инстинктом самосохранения, я запустил в
моего палача слабо мигающим светильником. Склянка ударилась о камень, и в
этот момент платье незнакомца вспыхнуло, окрасив воздух мутным отсветом
пламени. Мои нервы, и без того расстроенные, не вынесли полного ужасом и
бессильной злобой вопля несостоявшегося убийцы, и я рухнул без сознания на
скользкие камни.
Когда, наконец, я пришел в себя, вокруг сгустилась тьма. Разум,
раненный всем происшедшим, отказывался осмыслить настоящее, но любопытство
все-таки одержало верх. Кто это отродье зла? думал я. Как проник этот
человек в замок? Откуда эта одержимость, с которой он жаждал отомстить за
смерть Мишеля Злого? Как могло получиться, что проклятие из века в век
неумолимо настигало свою очередную жертву? Я знал, что отныне свободен от
пут многолетнего страха: ведь я сразил того, кто призван был стать орудием
проклятия; и теперь меня охватило жгучее желание осмыслить несчастные
события, омрачившие историю моей семьи и превратившие мою юность в
непрерывный кошмарный сон. Исполнившись решимости разобраться во всем, я
наша-рил в кармане огниво и кремень и зажег светильник.
Первое, что бросилось мне в глаза, было изуродованное почерневшее тело
загадочного незнакомца. Его глаза, еще недавно горевшие злобой, заволокла
смертельная пелена. Содрогнувшись от отвращения, я прошел в комнату за
готической дверью. То, что открылось моему взору, более всего напоминало
лабораторию алхимика. В углу высилась груда сверкающего желтого металла, из
которой луч света высек сноп искр. Вероятно, это было золото, но все
пережитое повергло меня в столь странное состояние, что мне не хотелось
терять времени на изучение металла. Проем в дальнем углу комнаты вел в самую
чащу дикого леса. Пораженный, я понял, каким образом незнакомец проник в
замок, и пустился в обратный путь. Я поклялся себе, что не стану смотреть на
останки моего врага, но, когда я приблизился к телу, до меня донесся едва
уловимый стон, словно жизнь еще не покинула бренную оболочку. Цепенея от
ужаса, я склонился над распростертым на полу обугленным и покореженным
телом.
Внезапно пелена спала с его глаз, и сквозь их черноту, более
пронзительную, чем спекшийся уголь лица, проступило нечто, что я бессилен
описать. Потрескавшиеся губы силились вытолкнуть какие-то слова. Я смог
различить лишь имя Карла Колдуна, мне показалось также, что с изуродованных
губ сорвались слова вечность и проклятие . Напрасно я силился собрать
воедино жалкие обрывки его речи. В ответ на мою растерянность смоляные глаза
незнакомца окатили меня такой злобой, что я задрожал, забыв о бессилии моего
противника.
Подхваченный последней волной утекающей силы, несчастный чуть
приподнялся на сырых склизких камнях. Я помню, как в предсмертной тоске он
вдруг обрел голос, и отлетающее дыхание выплеснуло слова, которые с тех пор
преследуют меня днем и ночью.
: Глупец! выкрикнул он. Неужели ты так и не понял, в чем мой секрет?
Жалкий умишко, не способный догадаться, по чьей воле на протяжении шести
веков твой род не мог избавиться от страшного проклятья! Разве я не
рассказал тебе о чудесном эликсире, дарующем вечную жизнь? Тебе ли не знать,
что тайна, над которой бились алхимики, открыта? Слушай же! Это я! Я! Я! Я
прожил шестьсс лет, и все шестьсот лет я мстил! Я мстил, ибо я Карл Колдун!
|
|
Скрыть комментарии Facebook